Господи, благослови начатое!
Пришла революция, проникла она и в церковную жизнь. Такое направление дала Москва. Вождями церковной революции явились следующие лица: митрополит в заштате Антонин (Грановский), протоиереи: Александр Введенский, Димитрий Красницкий, Платонов, Красотин. Существующая церковь с Патриархом Тихоном объявлена была подлежащей уничтожению, как безжизненное дерево, и как контрреволюционная. Вместо нее объявлена «Живая церковь». Во всех епархиальных городах России пооткрывались Революционные комитеты «Живой церкви» в полной зависимости от Московского комитета. Здесь, в Ростове, тоже открылся комитет. Председателем назначен был от Москвы протоиерей Покровской церкви Михаил Попов. Вошли в комитет заштатный священник Никольской церкви Андрей Сокальский, юрисконсульт – священник Василий Черняев, псаломщик Копытин, священник Евгений Матвеевский. Епископом в то время был Арсений (Смоленец), которого Революционный комитет игнорировал, а он – игнорировал комитет.
Сам комитет состоял из личностей весьма порочных. Таковым был сам председатель Михаил Попов, а также и Андрей Сокальский. Оба они архиепископом Арсением были уволены из приходов епархии. Когда оба они вышли на революционную деятельность, архиепископ Арсений объявил комитет неправомочным управлять епархией, пока Патриарх Тихон не даст своего утверждения. Надо сказать, что оба, Попов и Сокальский, имели большие долги перед властью. Попов, как выяснилось, был монархистом и служил в Охранном отделении при царизме, а Сокальский издавал листок «Свет Христов», где печатались антибольшевистские статьи с портретами императора Николая Второго. Оба они в силу этого, чтобы не быть в тюрьме, а может быть и еще хуже, пошли на службу революции и на раскол церкви. Все это было известно жителям города Ростова. Когда обвинили в контрреволюции архиепископа Арсения, то Сокальский выступил свидетелем обвинения против архиепископа, который получил пять лет тюрьмы. Защищали обвиняемого два адвоката: Бышевский Иосиф Иосифович и Ашман Михаил Александрович.
Интересный был момент при разборе дела. Когда допрос священника Сокальского против архиепископа Арсения близился к концу, защитник Бышевский спросил о. Сокальского: «Если вы обвиняете архиепископа Арсения в контрреволюционной деятельности и, фактически, не доказываете этого, то разрешите нас спросить, – вы сами были лояльным к Советской власти во время гражданской войны?» «Да, был лоялен», – смущенно отвечал о. Сокальский. «А этот листок вы редактировали с портретом Николая?» – спросил Бышевский и показал суду листок с подписью: «редактор священник Андрей Сокальский». «И почему же вы не на скамье подсудимых?» – продолжал спрашивать защитник. Пауза молчания… Сокальский не был судим, но смущение при толпе, заполнившей зал суда, было велико.
В дальнейшем Сокальский получил от обновленцев епископство и назначение в Ставрополь, но верующими не был принят, Он возвратился в Ростов и доживал свой век в доме той особы, которая приняла его (в Нахичевани), и носил в судках ей обед из общественной столовой. Умер без покаяния, похоронен на Армянском кладбище. На третий день была могила его раскрыта, архиерейское облачение снято. В те годы это было не редкостью. Печальна была судьба и о. Михаила Попова. С усердием он служил на разделение церкви, занося на черную доску несогласных с Революционным церковным комитетом, и тем способствовал аресту их: о. Иоанна Жежеленко, о. Алексия Трифильева, меня и протодиакона Димитрия Новочадова. Потом уехал в Пятигорск. А окончил сторожем Армянского кладбища. Но и здесь не удержался. И умер голодной смертью, думая о самоубийстве.
В чем же состояла сущность вероучения и нравоучения «Живой церкви», которая недолго прожила и сменила свою вывеску на «Обновленчество», но с тою же программой? Цель этой организации церковной была одна – приспособить христианство к современному строю государства, упростить церковный быт в самой церкви и, в частности, в жизни христианина. Поскольку законы церковные позволяли священству один раз жениться, епископ должен быть неженатым вовсе, а мирянину разрешается вступать в брак не более трех раз после вдовства, то «Живая церковь», а затем «обновленческая», снизили эти требования, а именно: мирянину дозволялось жениться и разводиться без конца. Священнику и диакону – также без ограничения, а епископ может быть, если того захочет, женатым.
Второй пункт гласил: церковный календарь соединить в одно с гражданским, иначе говоря, – подвинуть церковный календарь на тринадцать дней. А при такой подвижке праздник Пасхи оказывался совпадающим с еврейской пасхой, и не на воскресенье приходился, а на будничные дни. Между тем, как постановлением Первого Вселенского Собора Пасха должна быть только в воскресенье, не ранее 22-го марта и не позже 25-го апреля и ни в коем случае не может быть на будничный день. В отношении внешнего поведения сами живоцерковники-обновленцы определили: священник ли, епископ ли – только в храме за богослужением, а вне храма – такой же мирянин, как и все; и все, что мирянину позволяется, то и ему. Задача обновленцев была – упростить христианство, снять повышенные требования с него, а это и есть разрушение церкви православной, что и требовалось духом времени безбожия по программе большевизма. Обновленцы во главе с Введенским, Красницким, Белковым и Красотиным пошли на это и нашли себе в конце концов погибель. А православие дало, выявило стойких исповедников апостольской церкви, имена которых записаны в книге Агнца-Искупителя и будут ведомы и Церкви земной. Таковы нам лично известны, ибо узы Христовы связывали нас в отдаленных краях Крайнего Севера, митрополиты: Евгений, Кирилл, Петр – заместитель Патриарха Тихона; архиепископы: Иларион, которого митрополит Евгений (Зернов) именовал «Золотой ум и золотое сердце», Серафим (Мещеряков), Арсений Ростовский, Митрофан (Гринев), Захарий (Лобов), оба с Дона; Ювеналий (епископ Курский) и его викарий Никон, и многие, многие другие, которых имена перечислили особо, а также иереи, протодиаконы и миряне.
Мы пропустили одну страничку из церковной жизни Ростова, предреволюционную, а именно судьбу двух священников: Константина Верецкого и Иоанна Талантова. Первый – из Всехсвятской церкви, второй – из Никольской, первый – нашей епархии, второй из Владикавказской прибыл. В преддверии революции оба увлеклись течением, противным социализму. А второй, о. Иоанн Талантов, несомненно, выявил признаки психического расстройства на этой почве. За богослужением стал говорить проповеди о вреде революции и о пользе монархии. Вспоминал о великом князе Михаиле Александровиче, о французской конституции. Все это дало повод усомниться в его здравом уме. Врачи посоветовали жене его вывести из Ростова. Сели на пароход и отправились вверх по Дону. В первое воскресенье на пристани Сталинграда-Царицына высадились и отправились в церковь. Была литургия.
Отец Иоанн попросил у настоятеля разрешения сказать проповедь. Ничего не предвидя, настоятель разрешил. И Талантов двинул проповедь о пользе монархии и о вреде революции, и о великом князе Михаиле Александровиче. Все всполошились. Проповедник прервал проповедь и бегством с женой спасался на пароход. Настоятель остался в ужасе, – что ему теперь будет!?.. Возвратившись в Ростов, о. Иоанн продолжал болеть. Несмотря на мои советы поместить его в лечебницу, жена его противилась сему. За неделю до Рождества Христова войска генералов Кутепова, Миллера из корниловских отрядов стали переходить Дон, заняли Батайск, Койсуг и другие села. На четвертый день белые заняли Ростов. На второй день праздника о. Иоанн Талантов служил раннюю литургию, говорил проповедь о зверствах Ирода и в ней назвал большевиков иродами. В воскресенье снова говорил на евангельскую тему и внезапно обрушился на правый хор за опоздание на службу. Как психически больной человек, резко выражался. Поднялся шум в церкви. По окончании службы пять человек хористов были отведены в комендатуру (казаков) по подозрению в большевизме. Узнав об этом, я отправился к коменданту и объяснил, что священник Талантов душевно болен и ему нельзя доверять. Мое заявление было принято во внимание, и комендант отпустил задержанных. Когда заняли город красные, о. Иоанну мы советовали скрыться на время из квартиры, но жена его снова воспротивилась этому. Через два дня явился к нему на квартиру гражданин, подверг его допросу и ушел.
Прошло еще два-три дня. Отец Иоанн часа в три дня венчал в церкви. Подъехали сани и матрос верхом на вороном жеребце, отобранном у купца Великанова (посудный магазин). Матрос с винтовкой, не снимая кепки, вошел в церковь и приказал о. Иоанну кончать. Поняв, что ожидает его, о. Иоанн быстро закончил венчание, вошел в алтарь, попросил присутствовавшего там священника о. Павла Соболева поисповедовать его. Затем запасными дарами причастился. Вышел из храма и, как был в камилавке и в рясе с крестом наперсным, сел на дровни. Сани тронулись, впереди матрос на жеребце. Подъехали к дому, отстроенному уже, но незанятому людьми, на площади, ведущей к Братскому кладбищу за Гимназической улицей в степи. Сани остановились, и о. Иоанн стал лицом к палачам. Раздался выстрел… Остальное понятно. Труп был отправлен в больницу Красного креста. Церковный совет отправился в Революционный Исполком с просьбой выдать труп. В первые дни по занятии города Исполком состоял из меньшевиков. Они пришли в ужас, ответили делегации, что расстрел был без их ведома, и что они не одобряют этих мер. Дали нам разрешение взять труп, без торжественности перевезти в церковь, и выдали нам, трем священникам, удостоверения в лояльности властей города.
В этот же день был расстрелян священник Всехсвятской церкви о. Константин Верецкий по приговору военного трибунала, заочно утвержденному комиссаром Буденновской армии Антоновым. Взят был о. Константин из квартиры своей, прямо от обеденного стола, отвезен на окраину Нового поселения, где сваливались нечистоты. Сопровождавшая подводу группа женщин выражала одобрение расстрелу, кричали: «Так ему и надо!..» Труп отправлен в больницу и выдан церковному совету. Спустя несколько дней был расстрелян священник станицы Гниловской Евгений Авилов. Когда красные разъезды показались от Таганрога, местные казаки выехали навстречу с винтовками. С ними верхом на лошади и в ризах о. Евгений Авилов. Красные отступили. Отошли и казаки. Подошла пехота и заняла станицы перед Ростовом. Авилов был арестован и расстрелян. В ту же годину, когда красные занимали позиции возле станции Лихой (точно не ручаюсь за местность), отряд из одних священников той же местности, человек пятнадцать, без оружия, в своей одежде, направился к позициям красных. Дозорные доложили об этом командиру и запросили, как поступить. Последовал ответ: «Стрелять!» Отряд священников был уничтожен. Этот факт был впоследствии помещен в брошюре К.Ворошилова «Казаки Дона в гражданскую войну». Брошюру читал я сам. В Москве был расстрелян видный деятель партии монархистов, протоиерей о. Иоанн Восторгов. Для исполнения приговора выделены были китайцы, но они отказались. Посланы были наши. Исполнили.
Сформированный явочным порядком Революционный комитет, как отделение московской «Живой церкви», начал действовать с апреля 1922 года, после ареста епископа Арсения. Епархия оказалась без вождя. Комитет, как выразился председатель его Михаил Попов, «подобрал ключи» и вступил в управление епархией. Были разосланы приглашения причтам явиться и дать подписку в его признании. Все священники обратили внимание на настоятеля кафедрального собора, протоиерея о. Алексия Лебедева, смотря как он поступит. Явившись в комитет, в сторожку Покровской церкви, о. Алексий заявил председателю, что комитет не имеет санкции Патриарха Тихона на свое бытие, следовательно, он не каноничен, а потому он, Лебедев, не признает комитет правомочным управлять епархией. Прочие священники дали подписку с признанием комитета до избрания епархиальным съездом нового епископа и, кроме того, оговорили условие, чтобы комитет руководствовался канонами церкви. Инструктором в комитете был священник Андрей Сокальский, юрисконсультом был священник Василий Черняев, юрист по образованию.
Членами комитета были священники Евгений Матвеевский, два псаломщика и диакон Судоплатов. Комитет сей держал связь с Дон-Чека, давал сведения о благонадежности священнослужителей. Имел право указывать на нежелательность пребывания того или иного лица из числа священнослужителей в епархии, поскольку это лицо, по мнению комитета, тормозит дело революции в церкви. Поскольку архиепископ Арсений был осужден и заключен в ростовскую тюрьму, надлежало епархии избрать нового епископа. Сначала взялся временно управлять епархией епископ Сталинградский Модест, но по неизвестной причине отказался потом. В этот момент возвращался из Персии епископ Феофилакт в город Прилуки Полтавской губернии. Время было неспокойное, епископ задержался в Ростове, потом Дон-Чека задержала его, посадила в подвал и держала восемьдесят дней, пока он не заболел нервами и полуослеп. Его выпустили, но выезда из города не дали. Феофилакт оказался кандидатом на Ростовскую кафедру, и на съезде ростовского духовенства и мирян в ноябре 1922-го года был избран епископом Ростовским и Новочеркасским. С Москвой православной связи не было в это время. Патриарх Тихон был под домашним арестом. Вошли в права обновленцы как легализованная церковная власть. На январь 1923-го года назначался Первый обновленческий Собор для низложения Патриарха Тихона.
Теперь несколько слов о Епархиальном съезде 20-го ноября 1922-го года. Председательствовал архиепископ Феофилакт. Всей душой он был против этого съезда. Но сидя в Дон-Чека, он грубо обошелся с дежурным, и его определили под арест. К съезду он выпущен был еще с больными нервами и почти слепой. Речь говорил о. Василий Черняев. Говорил о необходимости реформы. Я возражал, я говорил о несвоевременности реформы. «Когда вся Россия охвачена пожаром, – сказал я, – надо повременить… Успокоится Россия, тогда и будет реформа. Пока с Москвой нет связи и судьба Патриарха неизвестна, не может быть и речи о реформе. Ее желают сейчас разбойники с большой дороги!..» Я предложил осудить попытку реформы, но это мое предложение, как и слова «разбойники с большой дороги», было принято церковными революционерами за указание пальцем в их сторону. Еще я говорил об обновленцах, что они расправляются с нами, тихоновцами, хотя Советская власть предоставила нам религиозную свободу. По близи меня сидел Гавриленко, заведующий отделом борьбы с религией, и его помощник Н.Я.Манис, который через год застрелился, о чем пропечатано было в газете «Молот». Но об этом я прочитал, уже находясь в Соловках, из номера, что прислала мне жена, вложив в посылку. Съезд окончился «многолетием» о. Алексию Трифильеву, мне и самому съезду. Епископ Феофилакт был избран епископом Ростовским. Стало похоже, епархия успокоилась.
Между тем в конце ноября была торжественная вечерня. Моя очередь была говорить проповедь. Я избрал тему: 81-й псалом, – «Бог стал в сонме богов…» и коснулся Введенского, Белкова, Красотина и остальных, и связал с ними обновление крестов на соборе. Истолковал это явление в природе как предзнаменование распада церкви и вообще Российского православия. Досталось и главарям обновленцев.
Что касается соборных крестов, то толпы народа наблюдали за ними. Исполком собрал главное городское духовенство: протоиерея Молчанова, Верховецкого и других. Собравшиеся дали успокоительное объяснение: ничего здесь нет чудесного, – лучи нагревают стекла в крестах, и они отражают сияние…
Вот такое именно мое несогласие с новым церковным направлением, именуемым «обновленческим», имело значение для моего ареста. Открытое выступление с церковной кафедры, обличение главных деятелей церковной оппозиции, отказ уплачивать церковный взнос на содержание Революционного комитета из личных средств, – все это поставили мне в вину и занесли на «черную доску». И я как идейный противник обновленчества был предназначен к высылке в дальние края. Но держалось все это в секрете от меня. Подошел праздник Рождества Христова 1923 года по старому стилю. Ничего тревожного не носилось в воздухе. Кончились дни Крещения. Восьмого января я совершил венчание и был приглашен на свадебный вечер. Посидел с час, простился с хозяйкой и ушел домой.
Утром, часов в двенадцать, сели с матушкой пить кофе с оладьями. В это время по лестнице поднялся посыльной с повесткой из Дон-Чека. Вручая повестку, он торопил меня явиться. Я сказал жене, что пойду и тут же ворочусь допить кофе. Быстрым шагом довел до угла помещения Дон-Чека. Меня принял сотрудник Самарин. «Посидите и познакомьтесь вот с этим», – сказал он и дал рукопись, полуграмотно написанную неизвестным. За стеной еле слышен был разговор о. Трифильева с начальником дон-Чека Зявкиным. Зявкин распинал Трифильева, а тот защищался. Потом разговор стих. Меня позвали, – Зявкин ушел, явился помощник его Манис. Он предложил мне вопросы: «Знаком ли я со студентом Щукиным?» Ответил: «Незнаком, но знаю как сборщика пожертвований на елку для бедных детей по церкви». «Признаю ли я епископа Арсения и поминаю ли его в церкви за богослужением?» Ответил: «Признаю и поминаю». В-третьих: «Знаком ли я с Трифильевым?» Ответил: «Знаком, так как в одном храме вместе служили». Записав мои ответы, Манис объявил в заключение мне: «Вы арестованы!»
Я запротестовал, заявил, что позвоню прокурору. Манис ответил: «Опоздали! Дайте записку домой прислать теплую одежду…» Меня отвели в общую дежурку, где были красноармейцы. Шум, гам, крик и густой дым от курящих. Через полчаса отвели в камеру ночевать. В камере нас находилось двое: я и гражданин, который твердил: «Меня расстреляют! Меня задержали как участника банды…» При этих его словах я вспомнил то обвинение, какое мне предъявил Манис: «Вы арестованы как контрреволюционер!..» На мой протест – я буду звонить прокурору, – Манис поспешил ответить: «Поздно. Вы арестованы, чтобы не было войны на церковном фронте…» Это мне осталось в памяти. Это разъяснение вело в церковный Революционный комитет, что подтвердилось в Москве.
Ночь прошла. Утром послышались голоса за стеной о. Алексия Трифильева и протодиакона Д.Новочадова. Часов в девять утра меня вызвали из камеры. На дворе стоял автобус, тут же находились Манис и два конвоира. Нас усадили: меня, архиепископа Митрофана, Трифильева и Новочадова. Автобус тронулся по направлению к вокзалу. Мы догадались, – в Москву. За машиной мелькнула фигура моего сына – четырнадцатилетнего Михаила. Он помчался к вокзалу. Посадки в поезд еще не было. Здесь верующие обступили нас. Сыну я шепнул причину ареста: «Комитет… На какой приговор, – Москва скажет…» Мы простились с провожавшими, и подгонявший Манис толкнул нас в вагон на четыре указанных места в купе. Поезд тронулся, чтобы привезти меня обратно через три года и шесть месяцев. В Новочеркасске к нам присоединили еще двух священников: о. Владимира Вологурина и о. Иоанна Артемьева. Последний раньше на полтора года возвратился, ибо изменил православию, перейдя в обновленчество, и по ходатайству Московского обновленческого Синода получил освобождение из лагеря до срока.
Почтовый поезд мчался. Нас сидело в купе шестеро: архиепископ Митрофан, протодиакон Д.С.Новочадов и четверо священников. Архиепископ Митрофан старался развлекать разговорами, конвоиры в разговор не вмешивались. Все походило, что мы пассажиры, а не арестанты, сидим вот так в пассажирском вагоне, в купе, и мирно беседуем. Но как мы не развлекались рассказами архипастыря, но главная мысль была у нас у всех одинаковая, – мы заключенные. Поэтому архиепископ вставлял в разговор фразу: «Мы – одинокие… И отец Трифильев, и прочие, можно сказать, вдовцы, несемейные… В особенности – я, монах… Сердце у меня спокойное. А вот отец Павел – иное дело: семья, пять человек, – подростки и один на руках, жена… Подвиг наш только начался. Но Бог укрепит нас в нем, в особенности – его, отца Павла…»
Поезд мчался. На узловых станциях он останавливался. Конвоиры не препятствовали выходить из вагона. На станции Воронеж я вышел на вокзал пообедать. Так прошел тот день. На другой день в три часа дня подъехали к Москве. Но, выйдя из вагона, остановились. Конвоиры оказались не знающими города. Им велели в Ростове сдать арестованных на Лубянку № 2, во внутреннюю тюрьму. Но где она, – не сказали.
Выручил архиепископ Митрофан как бывший москвич: «Пойдемте, я знаю, где находится Лубянка № 2…» Конвоиры согласились, и архиепископ Митрофан (Гринев) повел. Проходили мимо церкви, звонили колокола, трезвон был по нотам. Удивительно красиво! Стоял священник в ограде. Зашли по дороге в лавку, купили монпансье. Но вот и Лубянка № 2. Привели в комендантскую. Дали нам анкету заполнять. Я обратил внимание, что, пробежав все вопросы, он на «Ваше отношение к Советской власти» – сразу же ответил: «легальное». Когда закончилось заполнение анкет, нас перевели в соседнюю комнату под названием «собачник». Шум и крик, и дым табачный. Публика разнообразная, – от уголовников до районного прокурора. Прокурор познакомился с нами, сказав в утешение: «Вас продержат до окончания обновленческого собора на предмет снятия с Патриарха сана…» Но этого не случилось. Часа через два нашу группу перевели в камеру первого этажа на шесть человек. От нас требовалось соблюдать тишину, не дозволялось петь и вести громкий разговор. Передачи не дозволялись.
Кормили сносно, – давался суп из кроликов. Давали кипяток. Так прошло четыре-пять дней, и нас перевезли в Бутырскую тюрьму. Часов в шесть вечера подъехал «Черный ворон», посадили всю группу до отказа и помчали по Москве. Привезли в Бутырку, ввели в приемную-раздевальню. Прислуга – мужчины. Вещи надо было осмотреть, но прислуга объявила: «Товарищи, священников не обыскивать, они за церковь арестованы…» Не обыскивать! Некоторые из них говорили: «Вы за веру стоите… Не беспокойтесь, мы не пойдем за ними…» Архиепископ Митрофан отвечал им: «Они могут обмануть вас, подменить нашу веру…» «Не беспокойтесь, – отвечал один из них, – не обманут!..» После этого нашу группу рассадили по камерам и по коридорам. Архиепископа Митрофана (Гринева), меня и Трифильева с Д.С.Новочадовым разместили в 14-м коридоре, а новочеркасских священников, – о. Владимира Вологурина и о. Иоанна Артемьева, – в 15-м коридоре. Четырнадцатый коридор был на солнечной стороне, окна выходили на улицу, пятнадцатый же коридор упирался в стену. В четырнадцатом коридоре были размещены архиепископы, священники и монахи. Являлась возможность познакомиться с ними и на прогулке побеседовать с ними. Это был большой плюс. Но об этом в следующий раз.
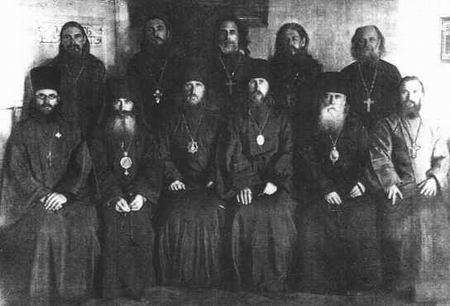
На четырнадцатом коридоре дежурной была первая жена Максима Горького. Она обслуживала политических и духовенство. Благодаря ей мы получили письменные принадлежности, а к Пасхе от рабочих Москвы получили корзину яиц и по франзольке. В камере нас было человек двадцать пять. В марте наша камера забастовала, – объявили голодовку. Я просил совета у епископа Петра Тверского. Тот ответил: «Не наше средство, не присоединяйтесь…» Причина голодовки – кража пшенной каши. На другой день хлеба не дали голодающим, и они сняли голодовку.
Через некоторое время нашу камеру рассортировали и перевели на первый этаж, который упирался в стену, а камера была на 70 человек. Здесь был архиепископ Новониколаевский и Якутский <Софроний> Арефьев. Он рассказал, между прочим, как во время Революции прислуга в Семинарии отказалась убирать загаженные донельзя уборные, и пришлось ему, ректору, убирать г…. руками. В камере он готовил… ваксу. Дня через три я попросил коридорного надзирателя перевести в соседнюю камеру, где находился архиепископ Киевский Димитрий (Вербитский), милейший человек! Там же находился настоятель Донского монастыря архимандрит Алексий. В камере мы отслужили всенощную, – епископ Димитрий за священника, архимандрит Алексий за регента и баса, священник о. Василий из Киева за тенора первого и я – за второго. Камера внимательно слушала пение всенощной службы.
С 15–25 января началось сидение в Бутырке. Пробыв в карантине, мы были переведены в 14-й коридор, – я, о. Алексий и о. Новочадов, протодиакон, – вместе, а епископа Митрофана поместили в соседней камере также с окнами на солнечной стороне. В камере № 66 помещалось четырнадцать человек, все в возрасте 25–50 лет, разной национальности: русские, финляндцы, евреи и среди них <…> поляки, перебежчики. Все подсудимые без приговора. Наша группа без приговора привезена была из Ростова и не знала своего будущего. Наконец, в камеру пришел прокурор Катаньян по делу пяти финнов, обвиненных в политическом убийстве. Этим случаем воспользовался и я, и спросил прокурора, когда же нас на допрос. Он ответил: «Вы сидите по церковному делу, и вас могут не вызывать. Приговор недели через две получите… Вы сидите по делу обновленцев…» Тогда я спросил: «Можно ли надеяться, что разрешат нам служить в камере пасху?..» Он сказал своему секретарю в буденовке: «Запишите этот вопрос. Надо подумать…» Ответа не последовало и в дальнейшем.
В околотке шла каждый день литургия. Служил митрополит <Серафим> Чичагов. Просфоры доставал каждый день и вино. Евреи, бывшие в околотке, очарованы были митрополитом Чичаговым и его обхождением. В 1–2 часа дня была общая прогулка всего четырнадцатого коридора, во время которой мы знакомились с духовенством. Здесь, на четырнадцатом коридоре, сидели архиепископы: Тверской Петр, Вятский Павел, Саратовский Вукол, Волоколамский Герман, Терский Серафим (Александров), архиепископ <Митрофан> Гринев, Николай Петроградский, митрополит <Серафим> Чичагов, архиепископ Андрей (Ухтомский), князь, проповедник социализма на религиозной основе. Общий труд, по собственному желанию, как это было в Соловецком монастыре. Никакого вознаграждения, общий стол, одинаковая одежда, начиная с настоятеля. Каждый имел свой самовар. Но программа Ухтомского была лишь предметом разговора со следователем. Дальше не пошла.
Утро началось с проверки. Давали кипяток… В полдень – обед, обыкновенно суп селедочный, в пять часов вечера каша пшеничная и чай. Затем песни, разговоры. Пасха была ранняя. Первый день ее был отмечен. Двери настежь… были открыты и не запирались. Утром приходили из других камер и христосовались. Пришел в нашу камеру епископ Волоколамского монастыря Герман, вызвал меня и протодиакона Новочадова, поставил нас посередине коридора и сказал: «Будем петь «Да воскреснет Бог!..» Мимо нас проходил с ключами надзиратель, улыбался и покачивал головою, дескать, – пойте… пойте…» Сам епископ пел тенором, я – вторым, протодиакон – басом. Оглушен был пением, – «Да воскреснет Бог…», «Тако да погибнут грешницы от лица Божия…» Все камеры вышли к дверям, и смотрели, и слушали нас, пока мы не закончили: «…И тако возопиим: Христос воскресе из мертвых!..» Мы трое были произведены в героев бутырской тюрьмы, – освятили ее пасхальным песнопением. И все это благодаря душевному епископу Герману и надзирателю. Помяни их, Господи, во царствии Твоем!.. И в тюрьме есть верующие! В тот же день мы, священники, получили передачи: булочки, бумагу для писем и по три яйца крашеные, от первой жены Максима Горького, – раздавала на коридоре сама. А затем принесли корзину яиц от рабочих Москвы для верующих четырнадцатого коридора и раздали, помня древних русских князей и царей, а также купцов и богатых людей, раздававших милостыню по тюрьмам в день Пасхи. В этот же день получили запасные дары и скромно приобщились я и о. Алексий, в коридоре, где окна выходили на закрытую церковь Сергия Радонежского.
В марте произошло событие, нарушившее жизнь четырнадцатого коридора. Кто-то узнал, что произошла покража в каптерке и по этому случаю объявляется голодовка всей тюрьмы. Протесты должны выражать сами арестанты и особым образом. Они должны подходить к открытым окнам и кричать: «Прокурора!.. Прокурора!..» И так целый день. Была ли кража, или ее не было, – неизвестно. Но горы каши валялись перед окнами камеры. Арестанты реагировали по-своему. Отец Алексий решил присоединиться к голодовке, объявленной камерой. Я же решил спросить совета у епископа Петра Тверского. Тот дал отрицательный ответ: «Это не наше средство… Мы не видели ничего… Мы – заключенные… Будем воздержаны от голодовки…» К нам присоединились евреи. Утром раздали пайки хлеба, согласившиеся голодать его не брали. Я взял свой паек. Целый день кричали «прокурора», на ночь замолкли. А утром прекратили голодовку. За это или по другому делу надзиратель нашего четырнадцатого коридора Павел Соколов через три месяца оказался в Соловках.
Наша камера оказалась раскассированная. Я и отец Алексий оказались в тринадцатом коридоре, в общей камере на 75 человек. Здесь же был уже архиепископ Новониколаевский Софроний (Арефьев). Здесь же находился священник московской церкви, взятый за изъятие ценностей, страшно тосковавший, вспоминавший домашнюю обстановку, кофе, чай, белый хлеб. Услышав, что в тринадцатом коридоре, в соседней камере находится группа духовенства, я попросил дежурного по коридору перевести меня туда под предлогом – «к своим землякам». Просьба была уважена, и я был переведен. Там оказались: настоятель Донского монастыря архимандрит Алексий, впоследствии архиепископ Новониколаевский и Якутский, архиепископ Киевский Димитрий, священник о. Василий Славучевский, владевший приятным первым тенором.
Я оказался недостающим для трио вторым тенором. Бас был готовым, – о. архимандрит Алексий, который обрадовался моему приходу. В субботу староста камеры нашей, уголовный преступник Цыган, заявил: «Так как с нами сидит духовенство, епископы и прочие, то я считаю нужным воспретить матерщину и прочую брань, и сквернословие из уважения к ним… А ты, Васька, – чтобы я не слышал в камере нашей жалоб на покражу мыла и прочего!..» Васька, мелкий уголовник, дал свое согласие, затем обратился к епископу с вопросом: «Желаете сегодня и завтра совершить службу, то я дам согласие своей камеры…» Архимандрит Донского монастыря выразил свое удовольствие, и здесь перераспределил обязанности: архиепископ Димитрий Киевский за священника, остальные – хористы и чтецы. Архимандрит – за регента. Остальные в камере обязались поддерживать порядок. Мы, хористы, согласились петь нотное: «Блажен муж», «свете тихий…» Архимандрит солировал: «Блажен муж… блажени вси…», «Ныне отпущаеши…» Дворецкого, «Хвалите имя Господне…» Архангельского. Впечатление в камере – сильное. Голоса прекрасные оказались и среди духовенства. Внимал и надзиратель, по временам через окошечко дверное приговаривал нам, поющим: «Потише…»
Так и здесь, на тринадцатом коридоре в Бутырке, освятили мы свершением богослужения тюремное помещение. И здесь нашлись верующие и среди заключенных уголовников и среди надзирателей – сочувствующие. Все объединились в молитве воскресшему Спасителю и Богу, в молитве и прославлении Его. Господь возглаголил в сердце Цыгана, и в особенности о. архимандрита Алексия, и, как последнее слово, в надзирателе. Слава Богу за все!
Переселение наше на 13-й коридор продолжалось недолго, всего мы пробыли в Бутырках неполных три месяца, кончая первым мая. В бытность, посещая околоток, мы встречали и профессора богословия, архиепископа Алексия (Богдашевского), минутные встречи; епископа Андрея (Ухтомского), отколовшегося от православия и много изрыгнувшего на старую Церковь нехорошего, окончившего свое бытие в далекой ссылке, примкнувшего к старообрядцам. Здесь я встречался с епископом Феодором из Донского монастыря, за арестом Патриарха Тихона ставившего епископов в Москве для православной церкви. Ездил к нему священник Алексий Шишкин, но безрезультатно, ездил в Москву, но епископ Феодор был изъят. А Киев отказался рукополагать. В Киеве был изъят митрополит Михаил. На вокзале сопровождавшие его уговаривали дать обещание остаться за штатом, не вмешиваться в церковные распри, но митрополит отказался от заштата. Пробил второй звонок поезду. Сопровождавшие заметили ему: «Владыко, еще не поздно, дайте слово не вмешиваться, не касаться разделения церквей, откажитесь от самостоятельности, и арест будет отменен…» «Не могу снять с себя Экзарха Украины, не согласен с делением Церкви…» Ударил третий звонок, и митрополит Михаил шагнул в вагон на Ташкент. Приехав в Ташкент, остановился он на квартире протоиерея о. Михаила Андреева, который и рассказывал эту историю нам лично. В бытность мою подневольного жительства в Ташкентской епархии при благословенном митрополите Никандре, один год при внутренней тюрьме Лубянке–2 находившемся, а потом занявшем Ташкентскую епархию…
Приближалось время покинуть Бутырку. Приговор нашей группе ростовской объявлен: три года. Сидение в тюрьме не засчитывается. Срок начинается со дня объявления приговора, то есть с 30-го марта. Поэтому расскажу о дальнейшей судьбе моих замечательных людей, с которыми Господь познакомил. В особенности об архиепископе Киевском Димитрии (Вербитском), замечательной задушевности и тяжких испытаний человеке. Он после нас был, кажется, в Казахстане, в ссылке, вместе со священником о. Василием Славучевским на два года. Они были избавлены от работ принудительных. Поддержку имели от киевлян. По окончании срока возвратились на родину. Владыка занял Михайловский Златоверховский монастырь. Верующие встретили радушно, и в первую Пасху поднесли ему комплект белья. Владыка поблагодарил, но возвращая обратно, сказал подносившим: «Все, вами поднесенное, я от вас направляю в Соловецкий лагерь. Там больше нуждается сосланное духовенство. Смотрите, исполните мою просьбу. Прошу вас об этом…» Подносившие миряне, конечно, исполнили его просьбу. Когда я возвратился из Соловков и был принят Греческой общиной, то узнал, что владыка Димитрий испытывает нужду в чае, а у нас его было много. И я послал почтой один фунт чая, прося уделить одну четвертую фунта о. Василию Славучевскому, помня нашу дружбу по тринадцатому коридору.
Владыка ответил, что полученное им с благодарностью выполнил. Недолго отдыхал владыка. Тот, о котором сказал Спаситель наш: «Я видел сатану, спадшаго с неба, как молнию» (Лк. 10, 18). «Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости…» (Откр. 12, 12). Был в причте владыки Димитрия архидиакон. Владыка только замечал, что к нему заходила женщина. На вопрос владыки архидиакон отвечал: «Стирать и гладить белье». Эта связь продолжалась, пока не обнаружились последствия. Желая скрыть их, архидиакон решил убить женщину и скрыть преступление. И когда она пришла к нему, он задуманное исполнил, а труп спрятал у себя под кроватью. Преступление обнаружили, архидиакон был арестован, и на дознании он сознался. Архиепископ был вызван на допрос. Он показал, что женщина приходила забирать белье, а запретить он ей это делать не мог, – доступ ко всем свободный. До окончания следствия виновника убийства посадили на грузовую машину и возили на показ всему городу. По суду дано было ему 10 лет. Архиепископ от потрясения заболел и умер (Ср. 1-е послание апостола Петра, гл. 5, стихи 6 и 9). Эти слова апостола Петра говорят о работе исконного врага христианства и там, где ему не должно быть, а он успел и в монастыре посеять зло!
Теперь скажем о протодиаконе Д.С.Новочадове После возвращения из Соловков он занял нештатную должность при соборе. После приезда архиепископа Серафима он вскоре уехал из Ростова в Москву и поступил к митрополиту Сергию протодиаконом. Был еще один епископ Сергий, младший, для сношения, связи с органами ГПУ. Год прошел благополучно для Новочадова, за то время ничего не случилось, только квартира для него оказалась крайне неудобная, для двух человек. В следующем году произошло обычное в то время роковое событие. Дано поручение было епископу Сергию-младшему «дать дело» на Новочадова. И он дал. Вызванный для допроса Новочадов все отвергал. Приглашенный на очную ставку епископ Сергий-младший записанные и прочитанные следователем его показания подтвердил. В негодовании ложью доносчика, Новочадов моментально вскочил со стула, схватил его и, подняв, намеревался ударить доносчика-епископа, но был остановлен следователем. В результате – три года ссылки. Из ссылки он писал: «Когда возвращусь, я расправлюсь с врагами своими», но из ссылки он не возвратился, и судьба его мне неизвестна. Известно только, что во время войны с Германией Сергий-младший был командирован в Латвию. Быв в дороге в одном городе, он задержался. Подошедшим неизвестным к такси опрошен, выстрелом из нагана был убит. «Взявший меч, от меча и погибнет!»
……………………………………………………….
Третьего апреля 1923-го года нам, ростовским священникам, был объявлен приговор ГПУ: без зачета времени предварительного заключения – три года Архангельских концлагерей. На другой день нашу группу вызвали во двор и поставили в ряды: архиепископов Митрофана (Гринева) и Софрония, шесть священников, один протодиакон Новочадов, человек пятнадцать ссыльных политических, пятнадцать уголовников и десять проституток. Уголовных поставили позади и всех отправили на вокзал, посадили в отдельный тюремный вагон, и поезд тронулся на Архангельск.















 «Искаженная грехом воля лучше всего исцеляется через послушание. Послушанием, принятым сердечно, из жизни сознательно устраняется «принцип «я хочу» - один из ведущих принципов греховного бытия»
«Искаженная грехом воля лучше всего исцеляется через послушание. Послушанием, принятым сердечно, из жизни сознательно устраняется «принцип «я хочу» - один из ведущих принципов греховного бытия»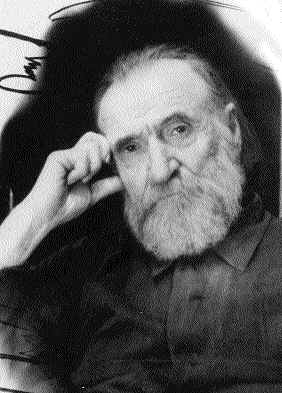 Воспоминания священника Павла Дмитриевича Чехранова (1875–1961) охватывают трагический период отечественной истории. Их автору, обыкновенному приходскому священнику, пришлось стать свидетелем и соучастником многих выдающихся событий. Детство, учеба в духовном училище и семинарии, священническое служение, красочные картины провинциально-непосредственной жизни. И одновременно – революция, гражданская война, со всеми ее ужасами, казнями и убийствами духовенства, борьба «живоцерковников» с канонической церковью, аресты, тюрьмы и лагеря… Перед нами встают образы выдающихся иерархов и священнослужителей, будущих новомучеников российских, с которыми о. Павлу довелось быть в близких отношениях, претерпевать невзгоды судьбы.
Воспоминания священника Павла Дмитриевича Чехранова (1875–1961) охватывают трагический период отечественной истории. Их автору, обыкновенному приходскому священнику, пришлось стать свидетелем и соучастником многих выдающихся событий. Детство, учеба в духовном училище и семинарии, священническое служение, красочные картины провинциально-непосредственной жизни. И одновременно – революция, гражданская война, со всеми ее ужасами, казнями и убийствами духовенства, борьба «живоцерковников» с канонической церковью, аресты, тюрьмы и лагеря… Перед нами встают образы выдающихся иерархов и священнослужителей, будущих новомучеников российских, с которыми о. Павлу довелось быть в близких отношениях, претерпевать невзгоды судьбы.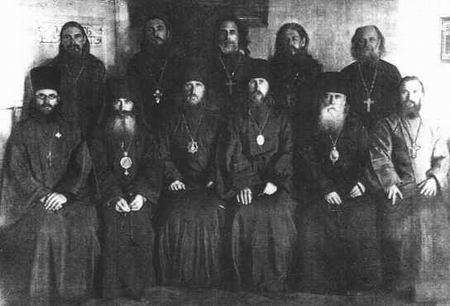
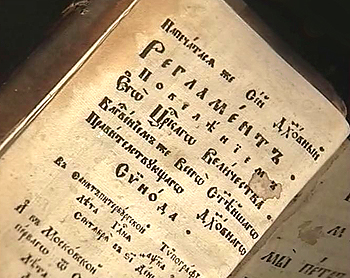

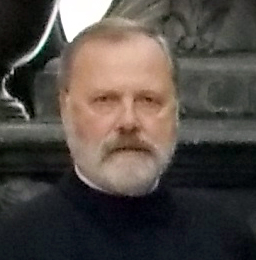


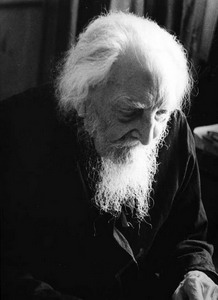




 "Что ж будет из этих роженых и выращенных главных наших миллионов? К чему просвещенные усилия и обнадежные предвидения раздумчивых голов?"
"Что ж будет из этих роженых и выращенных главных наших миллионов? К чему просвещенные усилия и обнадежные предвидения раздумчивых голов?"












 Ответ на такой вопрос начнем с другого вопроса: может ли быть что-либо более противоположное между собою, как монархический абсолютизм и демократическая республика? Эти два строя ни в чем между собою несогласны, но они сходятся в одном: не сам по себе тот и другой строй в этом сходятся, а вот недавно бывший русский абсолютизм и оппозиция, в последние дни ставшая во главу общественной жизни, сходились между собою в одном приеме управления, и, дай Бог, чтобы это, вовсе не трогательное единодушие, не было продолжено и на дальнейшие годы русской жизни.
Ответ на такой вопрос начнем с другого вопроса: может ли быть что-либо более противоположное между собою, как монархический абсолютизм и демократическая республика? Эти два строя ни в чем между собою несогласны, но они сходятся в одном: не сам по себе тот и другой строй в этом сходятся, а вот недавно бывший русский абсолютизм и оппозиция, в последние дни ставшая во главу общественной жизни, сходились между собою в одном приеме управления, и, дай Бог, чтобы это, вовсе не трогательное единодушие, не было продолжено и на дальнейшие годы русской жизни. Пасхальная ночь в Свято-Троицком приходе (РПЦЗ, Астория, США). Настоятель - протоиерей Всеволод Дутиков.
Пасхальная ночь в Свято-Троицком приходе (РПЦЗ, Астория, США). Настоятель - протоиерей Всеволод Дутиков.









.jpg)
